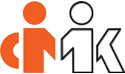Я уже давно, двадцать с лишним лет изучаю Россию. Мне было интересно наблюдать за развитием демократии в России, поэтому я начала изучать русский язык и устройство российской политической системы. Впервые я побывала здесь в 90-м, потом - в 96-м, в последние 10 лет - еще чаще. Но когда в 2004-м я поступила в аспирантуру, уже было видно, что демократизация в России закончилась, и открывать политическую систему Путин больше не будет. Тогда я засомневалась - не хотела изучать авторитарный режим. Поэтому переключилась на Индонезию, где в политике в это время начались процессы очень похожие на те, что происходили в России на десять лет раньше. А потом вдруг увидела, что эти две страны очень интересно сравнить.
У Индонезии и России общего гораздо больше, чем кажется. Во-первых, они очень большие в географическом смысле. Россия - самая большая в мире страна по территории, и этой территорией всегда было трудно управлять. В Индонезии просторы поменьше, но проблема управления тоже всегда стояла остро - страна состоит из тысячи с лишним островов. Во-вторых, обе страны - многонациональные, с огромным разнообразием этносов, языков и религий. Населения в Индонезии - на 100 миллионов человек больше, чем в России, 248 миллионов. А, в-третьих, обе страны пытаются перейти к демократии после нескольких десятилетий жестких авторитарных режимов: 70 лет советской власти в России и 30 лет правления генерала Сухарто в Индонезии.
В политологии есть много исследований, где сравниваются бывшие коммунистические страны и Россия. Но проблема в том, что другой России в Европе нет: сравнивать Россию с Украиной или с Польшей не очень корректно, потому что именно Россия занимала господствующее положение в соцлагере. С другой стороны, было интересно сравнить Россию со страной, в которой был авторитарный, но не коммунистический режим.
Кроме того, в политологии есть много теорий о том, почему демократия развивается в одних странах и не развивается в других. Главной причиной чаще всего называют уровень экономического развития. Но тогда Россия должна быть гораздо более открытой и демократичной страной, чем Индонезия, а в реальности все наоборот. Это означает, что дело здесь не в экономике.
Объездив обе страны, я провела более сотни интервью в каждой из них. Говорила с политологами, журналистами, политиками и простыми гражданами. Мне было важно найти тех, кто действительно представляет население. С помощью местных социологов я выбирала типичных представителей - по полу, возрасту, уровню образования, национальности и профессии. В итоге оказалось, модели участия граждан в политической жизни в России и Индонезии очень отличаются. И именно этим отличием и объясняется разница в уровне развития демократии в этих странах.
Нельзя сказать, что россияне совсем политически не активны. Но они предпочитают не участвовать в групповых акциях. Обычно они пишут заявления, жалобы, открытые письма, ходят на приемы к чиновникам и ждут реакции властей в одиночку. Они мало участвуют в деятельности политических партий, мало ходят на протестные акции (события последнего года - новое явление). В результате, чиновник может ответить на письмо, решить какую-то проблему, и люди снова голосуют за ту же партию.
Это советский стиль, который дает возможность властям на самом высшем уровне свернуть демократические институты и процедуры без особого сопротивления граждан. А вот в Индонезии в политике люди предпочитают не индивидуальные, а групповые действия: участвуют в политических партиях, в демонстрациях. Это дает политическим элитам гораздо более сильный сигнал о важности защиты демократии.
Есть три причины, по которым россияне ведут себя именно таким образом. Во-первых, это низкий уровень организации гражданского общества, не только в политике. Например, в России почти нет реальных профсоюзов, хотя именно профсоюзы обычно играют важную роль в политике - это мы помним и по Польше, и даже по США.
Другой тип организаций, которых очень мало в России, - религиозные. Хотя последние 20 лет Россия переживает религиозное возрождение, все больше людей считают себя верующими, ходят в церковь, крестятся, но только около 5% россиян посещают церковь хотя бы раз в неделю. А это значит, что до сих пор в России верующие люди исповедуют свою веру тоже не в группе, а в одиночестве. Они не знакомятся с новыми людьми, контактируют только со своими друзьями, которых знают всю жизнь. А человек гораздо охотнее идет на демонстрацию, выборы или еще куда-то, если его зовут туда знакомые люди.
Еще одна социальная группа, которая в России очень слабо организована, - студенчество. Вместо комсомола не появилось другой организации. У студентов нет даже общественной роли, не говоря уже о политической. И государственные университеты сейчас вряд ли захотят, чтобы студенты организовывались в политическом смысле.
Вторая причина, определяющее политическое поведение россиян, - это вера в действенность собственных усилий. Если говоришь с человеком, то он убежден, что какое-то решение возможно, если только написать письмо и пойти с ним в какое-то учреждение, а вот от участия в политической партии или голосования на выборах толку никакого.
А в Индонезии люди верят именно в групповые акции, потому и участвуют. В России никогда не было смены президента в результате настоящей конкуренции, за исключением 91-го года, когда Ельцин выиграл выборы. Это очень влияет на политические настроения людей. Например, в Красноярске уже три раза в течение десяти лет люди видели смену губернаторской власти: губернатор, назначенный Ельциным, решил не баллотироваться на выборах в 1993 году. В 98-м году глава региона не был переизбран, выборы выиграл Лебедь. После смерти Лебедя, в 2002-м, прошли выборы с очень жесткой конкуренцией. И исследования показывают, что вера красноярцев в свое влияние на политический процесс гораздо выше, чем, скажем, у жителей Татарстана, где долгие годы правил Шаймиев.
Наконец, в России люди совсем не доверяют политическим институтам. В принципе, доверие к ним низкое по всему миру, но отличие России в том, что здесь это недоверие к институтам совмещается с доверием к конкретным личностям. В начале 2000-х люди доверяли Путину (а в Казани, например, - Шаймиеву), и из-за этого у них создавалось ощущение, что им самим никаких решений принимать не нужно - начальник все решит.
Это доверие позволило властям свернуть демократические процедуры и институты. Например, когда в России я задавала такой вопрос: <По вашему мнению, исполнительная и законодательная власть должны быть избраны народом или назначены?>, Почти все отвечали - <избраны народом>. Но на следующий вопрос: <В 2004 году Путин отменил губернаторские выборы. Что вы об этом думаете?>, почти все ответили либо, что Путину виднее, кого сделать губернатором, либо, что им все равно, потому что назначены те же губернаторы, что и прежде. То есть людям важно то, кто именно сидит в губернаторском кресле, а не как он туда попал.
В Индонезии за последние 10 лет, наоборот, количество выборных должностей не сокращается, а увеличивается. В 2004-м в стране прошли первые прямые выборы президента. В 2005-м появился еще один уровень - выборы районных властей. В 2008-м появились губернаторские выборы. В 2004 действовавший президент проиграла выборы и ушла из власти, люди без проблем избрали нового президента. Хотя в Индонезии демократические реформы начались на десять лет позже, чем в России, процесс демократизации там идет гораздо успешнее.
Все дело в поведении людей. Индонезийцы участвуют в политических партиях, стимулируют политическую конкуренцию. В 90-х годах в России тоже была возможность построить политические партии, но людям это было неинтересно. В США есть такой термин - sofa parties, диванные партии. То есть партия, все члены которой могут поместиться на одном диване. Это как раз случай России. А в Индонезии люди не стесняются участвовать в партиях. Там политики должны конкурировать с другими не только за то, чтобы достичь власти, но и остаться в ней.
При этом любопытно вот что, в России люди гораздо лучше осведомлены о том, что такое демократические процедуры и институты. В России почти все опрошенные смогли сформулировать ответ на вопрос, что такое демократия, и даже добавляли, что в России демократии сейчас нет, потому что нет, например, честных выборов. То есть люди все прекрасно понимают.
В Индонезии это понимание гораздо слабее. Среди опрошенных мною индонезийцев некоторые вообще не слышали такого слова - <демократия>, а многие не смогли дать ему определения. Хотя в стране вовсю практикуются демократические процедуры. Но несмотря на то, что индонезийцы имеют очень низкий уровень образования (у многих нет даже среднего), через контакт с другими людьми - в религиозных группах, студенческих, группах, объединяющих соседей, - они приобретают навыки участия в политике. Учатся организовывать группы, выступать перед аудиторией, участвовать в других видах политической активности.
То есть проблемы с демократией в России - это результат того, что люди не были вовлечены в политику в 90-е годы. Говорят, что ситуация меняется, появляются новые группы. Хочется в это верить, но мне кажется, что поменялся только средний класс в Москве, а не типичные россияне, с которыми я говорила. Тем более, сейчас в России ограничения на НКО такие, что даже неполитические организации будет сложно создать. Например, трудно представить себе в России группу, которая захочет просто вместе читать Библию, но при этом будет не православной. Не говоря уже о том, как сложно привлечь ресурсы для создания политической партии. Если не поменяется прежде всего это, надежды на улучшения очень мало.
***
Автор - доцент Гринэлл Колледжа (США), в настоящее время - стипендиат программы Института Кеннана.